В основе отношения государства и его граждан лежит общественный договор. Общественный договор - это система, при которой люди уступают государству часть своих суверенных прав и свобод в обмен на защиту, разрешение споров и так далее.

Томас Гоббс (1588–1679), Джон Локк (1632–1704), Жан-Жак Руссо (1712–1778)
Общественный договор (ОД) — это своего рода правовая операционная система, на основе которой были созданы как минимум три конкурирующих политических направления.
Появилась эта система в XVII—XVIII вв. В качестве её создателей обычно называют Томаса Гоббса, Джона Локка и Жан-Жака Руссо. Но на самом деле речь идет об основателях трех разных политических направлений, по своей сути враждебных друг другу. Гоббс — идеолог «просвещенного абсолютизма», Локк — зачинатель либерализма, Руссо — предтеча коммунизма.
Общим для всех трех течений является мысль о том, что государство функционирует в силу некоего договора, передавшего государству полномочия по защите безопасности, собственности и/или свободы. Якобы когда-то, давным-давно, люди, выйдя из первобытного, «естественного» состояния (т. е. из «Эдема»), обнаружили несовершенство мира, и чтобы хоть как-то нивелировать это несовершенство, придумали государство. Т. е. это такой ответ на убийство Каином Авеля.
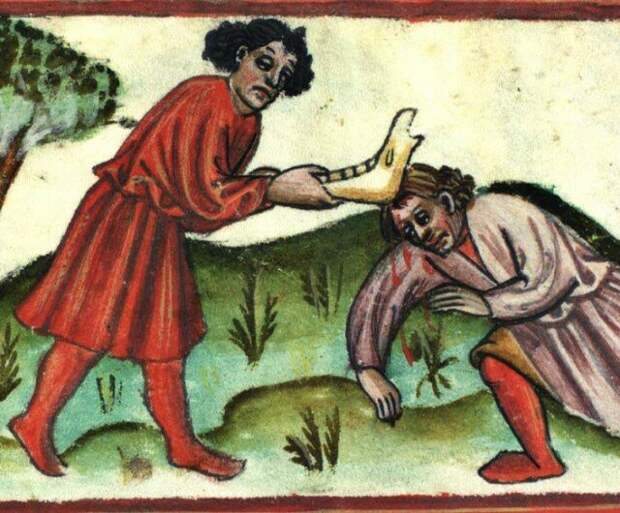
Но существует и альтернативные концепции возникновения государства. Например, противником концепции ОД был Гегель. Есть «завоевательная теория» Гумпловича и Оппенгеймера. Есть близкая ей по смыслу теория «государства как стационарного бандита» Мансура Олсона. Все они так или иначе доказывают, что никакого общественного договора в древности не было, а был циничный захват власти более сильными и воинственными отрядами (например, варягами Рюрика и Олега, если мы берем в качестве примера историю России). «Тот, кто лучший лук носил, // Всех других поработил», — так сформулировал этот постулат Киплинг в стихотворении «Общий итог» (в английском оригинале отсылка все к тому же библейскому мифу: «He that drew the longest bow // Ran his brother down, you know»; т. е. по Киплингу получается, что государство создали не «авели», чтобы защищаться от «каинов», а «каины», — потому что они оказались более сильными, жадными и вороватыми).
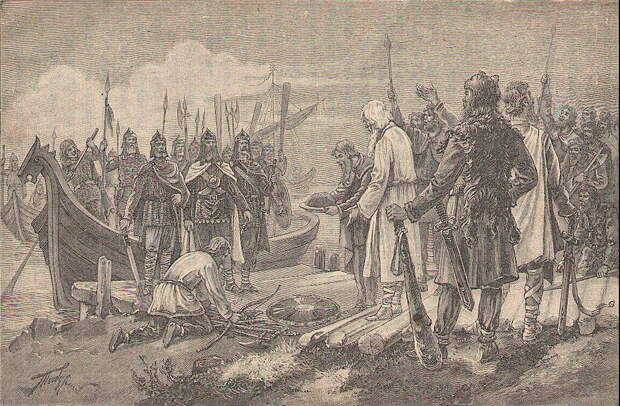
Спектр критики ОД необыкновенно широк. С одной стороны, теорию критикуют «инфракрасные» противники сильного государства в принципе, т. е. разного рода анархисты, либертарианцы и модерн-феодалы. С другой стороны, на ОД нападают «ультрафиолетовые» государственники, позитивисты и императивисты: государство, мол, существует… просто потому что оно существует! Откуда государство взялось, неважно, а важно слушаться и исполнять; вы бы придумали еще, что школа взялась из того, что Первый Ученик 30 000 лет назад подписал договор с Первым Учителем о том, что он не будет хулиганить, а будет сидеть у костра и внимательно слушать, как нужно охотиться на мамонтов. Очень разумный довод, согласитесь.
В общем, давайте разбираться в этом бардаке мнений и предположений. И начнем с происхождения теории ОД. Когда, как и почему эта идея возникла. И зачем она, вообще, нужна. Да и нужна ли?
Был ли общественный договор в Древней Греции?
Спойлер: не было, а если и был, то очень странный, больше напоминающий фашизм
В учебниках можно нередко натолкнуться на утверждение о том, что ОД придумали еще в Античности. Чаще всего в качестве примера приводят Афинское государство и говорят, что это предтеча современной демократии.
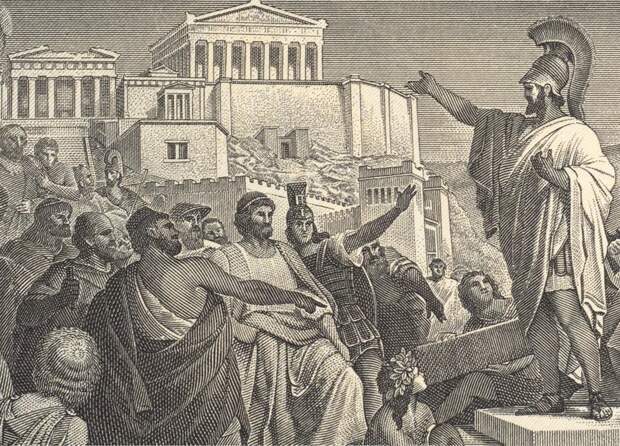
Это не совсем верно. Когда мы начинаем внимательно читать источники, выясняются странные вещи, которые с нашим пониманием демократии никак не вяжутся. Например, весной 399 до н. э. в Афинах осудили и приговорили к смерти философа Сократа, якобы, за неуважение к богам. На суде философ вел себя вызывающе и договорился до того, что судьи, которые ему поначалу симпатизировали, оскорбились его речами и поменяли свое мнение с «миловать» на «казнить». Согласно преданию, у Сократа была возможность убежать из тюрьмы, но он отказался. Вот как предсмертные слова философа передал нам Платон – самый известный его ученик:
«…Если бы вдруг пришли бы Законы и Государство, стали бы и спросили: „Скажи-ка, Сократ, что это ты задумал делать? Не замыслил ли ты этим своим поступком [предполагаемым побегом], который собираешься совершить, погубить нас, Законы, и все Государство, насколько это от тебя зависит? Или, по-твоему, еще может стоять целым и невредимым то государство, в котором судебные приговоры не имеют никакой силы, но по воле частных лиц становятся недействительными и отменяются?».
Мы видим, что Сократ не боится смерти, а с наслаждением ждет ее. Государство он воспринимает как неизбежный рок и готов этому року послушно подчиниться, более того, он напрашивается на наказание, как бы вызывает огонь на себя. «Частные лица», по мысли Сократа, только вредят государству. Ну и где тут демократия в ее современном, либеральном значении?

Это странное поведение Сократа можно объяснить только спецификой политической культуры Античности. Древнегреческие полисы были государствами по нашим меркам тоталитарными, но при этом сами греки почему-то воспринимали этот тоталитаризм нормально, даже гордились им. Гражданство здесь не право, а привилегия. Многие жители Афин были не гражданами, а рабами или метэками (т. е. «понаехавшими»), но могли получить гражданство за особые заслуги, чаще всего за участие в битве. К тому же в Афинах был распространен остракизм, т. е. лишение гражданства по политическим мотивам и изгнание из города, — в случае если народное собрание признавало политика «иноагентом», сотрудничающим, например, со Спартой.
В Спарте всё было еще жестче, чем в Афинах: полноправными гражданами тут считались только спартиаты, обязанные служить в армии 40 лет, а все остальные были «недогражданами»: илотами, периэками и т. д. В основе получения гражданства заслуга, поступок, может быть, даже подвиг. Нужно пройти курс молодого бойца (агогэ́) и вытерпеть священную порку в храме Артемиды. Вот когда ты все эти испытания пройдешь, покажешь силу своего спартанского духа и волю к победе, вот тогда ты будешь считаться человеком и гражданином. А до тех пор ты никто и звать тебя никак, даже если ты сын царя. Это очень похоже еще и на пафос другого знаменитого стихотворения Киплинга: «If you can force your heart and nerve and sinew… you'll be a Man, my son!».

Если мы присмотримся чуть более внимательно, мы увидим, что спартанская модель — это отголосок первобытных обычаев принятия подростка в племя только после прохождения им т. н. обряда инициации. Этот обряд хорошо известен по книге Владимира Яковлевича Проппа «Исторические корни волшебной сказки». Т. е. Иван-царевич, отправляющийся в темный лес на поиски чудесного зелья или артефакта, мало чем отличается от какого-нибудь 15-летнего Леонида, Агесилая или Лисандра, который должен сразиться с волком, как это показано в начале фильма «300 спартанцев». Смысл обряда в том, чтобы найти себя, свое имя, тотем, — и получить тем самым первобытный «паспорт». Это сейчас тебе дают паспорт автоматически, по исполнении 14 лет. В древности так не было и не могло быть. Нужно было сначала пострадать, помучиться и доказать языческим жрецам или шаманам, что ты слеплен из нужного для племени теста.
Резюмируем. Древнегреческая концепция общества прямо противоположна современной демократии и теории ОД. Никаких прав у тебя от рождения не то чтобы нет, — права даются, во-первых, только национальной элите, а во-вторых, поставляются в пакете с драконовскими обязанностями активно участвовать в государственной жизни и шагать по горным перевалам Пелопоннеса стройной фалангой с криком «алала́!» («ура!» по-древнегречески). Если ты хочешь, чтобы с тобой считались, — заслужи. Желательно в бою за родину. Лучше всего вообще умереть, как это и сделал совершенно намеренно философ Сократ. «Священную смерть принимают мужи, // Жертвуя собою за отечество», — говорил поэт Пиндáр. В этом и была идея изначально, идея очень правильная и патриотическая, если подумать. Ко временам Александра Македонского этот полисный патриотизм очень сильно ослабел и был вытеснен панэллинизмом, а потом и совсем раскис, в результате чего Греция была завоевана Римом и превращена в скучную провинцию Ахайя.
Божественное право и его крушение
Спойлер: на самом деле нет, не рухнуло, а просто трансформировалось
На смену этой первобытной по сути идее в Средние века пришла другая, которую принято называть божественным правом. Что это значит? Это значит, что мышление средневекового человека было очень религиозным. Бога и дьявола он воспринимал как факт, приблизительно как мы сейчас воспринимаем электричество или интернет: мы же не видим само электричество, а только его проявления. Точно так и здесь. Происки дьявола нетрудно заметить (при условии, что ты веришь в него), потому что семь грехов очевидны (как очевидны лампочка и розетка): гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие и уныние. Дьявол — враг рода человеческого и хочет соблазном и обманом уничтожить мир. Но ему мешают силы добра, каковыми являются, во-первых, христианская церковь, а во-вторых — благочестивые христианские правители, разного рода короли, герцоги и маркграфы.
Т. е. источником власти в понимании средневекового человека является сам Бог. Отсюда и распространенная в документах Средневековья формула «милостью Божьей», во многих монархических государствах сохранившаяся до XX века. Например, манифесты Николая II начинались так: «Божиею милостью Мы, Николай Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая».
В концепции божественного права никаких граждан нет, а есть только монарх и его подданные. Проще говоря, сувереном (т. е. верховным носителем власти, как бы ее собственником) является царь, король. Этот термин в XVI веке придумал французский юрист Жан Боден. Но в том-то и дело, что в том же XVI веке сам комплекс этих средневековых представлений о государстве и обществе затрещал по швам, как плохо пошитые рейтузы. Реформация привела к тому, что единая Европа раскололась на католиков и протестантов, и очень многие протестантские страны выступили против своих католических королей.

Бунт! Самый яркий пример такой восставшей страны — Нидерланды. Причем начиналось всё в 1566 году очень даже скромно: голландцы говорили, что они вообще-то не против испанского короля, они всего лишь за то, чтобы испанцы их уважали. Но очень быстро протестантская пропаганда набрала силу, бунт перерос в вооруженный мятеж, католики-испанцы рассвирепели, начали репрессии, и в результате 26 июля 1581 года в Гааге был торжественно провозглашен «Акт о клятвенном отречении». Испанский король Филипп II был объявлен предателем и врагом голландского народа. Забегая немного вперед, скажем, что всё то же самое будет и в Америке 195 лет спустя, и тоже в июле, и считается даже, что у Джефферсона и других вождей американской революции была на руках копия голландского акта, с которого они и скопировали свою декларацию независимости.Подобные восстания и мятежи против королей были и раньше, конечно, и даже в том же регионе: так, например, в 1302 году фламандцы восстали против французского короля Филиппа Красивого, а потом еще и разгромили французскую армию в знаменитой «битве шпор» при Куртре. Но в начале XIV века мятежи еще не перерастали в смену идеологии. Теперь же, в конце XVI столетия, фундамент средневековой Европы зашатался. Идея божественного права была поставлена под сомнение.
Радикалам-протестантам эта концепция была попросту невыгодна. Протестантизм, в отличие от католичества, предполагает некоторую автономию церковной общины, устанавливает право петь церковные гимны и печатать Библию на родном языке, а не на латыни (которую в Италии, Испании или Франции понимают, конечно, лучше, потому что в этих странах говорят на романских языках, а не на германских; вот почему протестантизм добился успеха в основном в германоязычных странах: Нидерландах, Германии, Англии, Дании, Швеции). Т. е. подчиняться римским папам и испанским королям мы не будем, а будем жить, говорить и молиться Богу так, как мы считаем нужным. И, вообще, да здравствует свобода (религиозная)! Человек свободен, ибо может выбирать, какие книги читать и в какую церковь ходить.
Из этого-то религиозного протеста и выросла концепция естественного права, альтернативная праву божественному. И вот почему в горниле этих протестантских войн появилось большое число голландских или немецких юристов и философов, развивавших именно идею естественного права: Гуго Гроций, Пуфендорф, Вольф и многие другие.
Не стоит думать, что эти ученые были такие уж вольнодумцы. По большей части они работали на правительства Голландии, Пруссии или Швеции и писали ровно то, чего хотели от них протестантские короли, курфюрсты и штатгальтеры. А нужно было обосновать окончательно утвержденный Вестфальским миром 1648 года принцип cuius regio, eius religio («чья власть, того и вера»). Т. е. утвердить монарха в праве устанавливать государственную религию и изгонять из своей страны всех, кто с тобой не согласен. Концепция естественного права очень удачно на эту политическую конъюнктуру легла. Вроде как ты подвергаешь репрессиям всех несогласных с правительством еретиков и диссидентов на основании некоего национального консенсуса. Лучше всех эту религиозную подоплеку сформулировал Самуэль фон Пуфендорф, считавший, в частности, что «просвещенный» государь имеет право казнить еретиков и выкрестов. Эти идеи получили признание и в России, где в 1711 году Петром Первым был учрежден «Приказ протоинквизиторских дел».
Т. е. церковь была подчинена государям и стала всего лишь придатком для решения идеологических задач. Произошло это сначала в протестантских странах вроде Англии или Швеции (а также в ориентировавшейся на протестантские страны петровской России), но и католические государства не отставали. 17 октября 1685 года французский «король-солнце» Людовик XIV отменил, например, веротерпимый Нантский эдикт 1598 года своего деда Генриха IV. Началось разрушение гугенотских церквей и школ. Сотни тысяч французских протестантов были вынуждены бежать, в основном в Англию.
В сущности, концепция естественного права в момент своего возникновения в XVII веке была заточена под решение конкретных политических задач. Вот почему не совсем верно видеть в ее появлении некий «прогресс». Божественное право никуда не делось. Оно было попросту отобрано государями у церкви и сделано своим государственным инструментом, а для теоретического обоснования были наняты квалифицированные юристы, которые переработали старые католические идеи, всё переписали, переделали и подали под модным в XVII веке соусом «естественных» наук.
«Левиафан» Гоббса: рождение империи из ужаса революции
Спойлер: контрреволюция оказалась ничем не лучше
Нетрудно заметить, что все три отца-основателя теории общественного договора — выходцы из протестантских стран: Гоббс и Локк — англичане, а Руссо — уроженец кальвинистской Женевы («я рожден гражданином свободного Государства», так писал сам Жан-Жак с гордостью).
Начнем со старшего, т. е. с Гоббса. Томас Гоббс родился еще в XVI веке, в 1588 году. Напомним политическую ситуацию того времени. Англия была протестантской страной с 1534 года. Однако внутри самого Английского королевства всё было очень нестабильно. Было много католиков, не согласных с официальным англиканским курсом; самый знаменитый из таких католиков — террорист Гай Фокс, попытавшийся в ночь на 5 ноября 1605 года («запомни ноябрь и день его пятый») подорвать здание парламента; т. е. в парадигме XVII века Фокс был ультраправый фанатик-традиционалист. Тогдашними «инфракрасными» были, наоборот, пуритане («индепенденты»), совершенно справедливо рассуждавшие в том духе, что английские короли по-хамски приватизировали церковь, только и всего. «Нужно продолжить реформацию и добиться отделения церкви от государства!» — вот идея английских пуритан в одном коротком предложении. Эти-то пуритане во главе с Оливером Кромвелем и устроили в середине XVII века «английскую буржуазную революцию», как ее обычно называют в России (английские историки называют эти события English Civil War или Wars of the Three Kingdoms).
Всё было бы не так плохо, ежели бы эти религиозные споры не наложились на этнический фактор. Население Британских островов неоднородно: есть четыре крупных этноса, три из которых (валлийцы, шотландцы и ирландцы) — кельты, а не потомки германоязычных англов, саксов и ютов, вторгшихся сюда в V веке. Англичане к XVII веку подчинили себе ирландцев, однако те назло англосаксам не посещали их англиканскую церковь, и уж тем более пуританские общины, а придерживались католицизма. Очень странная ситуация сложилась в Шотландии, которая в 1603 году оказалась объединенной с Англией в результате того, что шотландский король Яков Стюарт наследовал от бездетной Елизаветы I еще и английскую корону. Яков, разумеется, с удовольствием переехал с бедных шотландских гор в богатый Лондон, что вызвало у гордых шотландцев естественное недовольство. Словом, этнические противоречия нарастали, как ком, и в результате вспыхнуло восстание: в 1639 году — в Шотландии, а в 1641-м — в Ирландии. Король стал требовать у парламента денег на подавление мятежа кельтских окраин, парламент отказал. Тогда Карл I 22 августа 1642 года пошел на принцип и поднял над Ноттингемским замком королевский штандарт — огромное знамя с короной в центре и указующим как бы с неба перстом: «Воздайте кесарю должное ему».
Т. е. король начал мятеж против своей же собственной страны и парламента на основании исторически загибающегося божественного права! В общем, всё кончилось для короля очень печально. 14 июня 1645 года пуритане разгромили королевскую армию при Нейзби, а самому Карлу в 1649 году отрубили голову. В том же году Кромвель высадился в Ирландии и залил Зеленый остров кровью от Дублина до Голуэя; от 200 до 600 тыс. ирландцев, по разным оценкам, были убиты, умерли от голода или болезней, многие были лишены земли и высланы на запад страны, т. е. помещены в резервацию. Всё это был геноцид, за который Англия до сих пор не покаялась, и каяться, по-видимому, не собирается, — наоборот, Кромвелю ставят памятники.

Теперь какое отношение эта резня имеет к Томасу Гоббсу. На свою беду, Гоббс был как раз роялистом, т. е. оказался на стороне проигравших. Причем он даже не принимал участия в гражданской войне. Когда в 1640 году начались разборки короля с парламентом, Гоббс испугался, что может попасть под каток и благоразумно сбежал во Францию. Здесь он преподавал математику наследнику английского престола, будущему Карлу II, а между делом писал свою главную книгу — «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского».
Роялисты, по-видимому, почитали черновики этой книжки и… обиделись на Гоббса. Потому что она шла вразрез с привычной концепцией божественного права. Гоббс вроде как защищал монархию, но при этом делал это по-новому. Никаких «Божиею милостью Мы, Карл Первый или Вторый» в тексте не было, а были какие-то материалистические, на грани фола, рассуждения о том, что государство — это Левиафан, «смертный бог», созданный людьми для защиты общественного договора.
Гоббс тоже обиделся на роялистов и убежал в Лондон, где в это время в разгаре была как раз диктатура Кромвеля. Судя по всему, лорд-протектор принял перебежчика ласково, потому что ему позволили книгу издать. Т. е. Кромвель, человек в принципе умный и энергичный, разглядел в Гоббсе что-то такое, чего не увидели замшелые и отсталые сторонники Стюартов, а именно — концепцию полицейского государства, очень хорошо ложившуюся на амбиции самого Кромвеля, роль которого в истории Англии в общем-то аналогична Сталину. Потом Кромвель умер, и к власти в Англии вернулись Стюарты. Ученик Гоббса Карл II занял трон и первым делом запретил своему учителю публиковать какие-либо сочинения на политические или религиозные темы.
Это парадокс, конечно. Книга, посвященная защите монархии, не нравится монарху. И еще больше не нравится церкви. Например, в 1868 году перевод «Левиафана» почему-то запретили в России, а весь тираж сожгли. Объясняется этот парадокс очень просто. Гоббс был материалист и рассуждал в концепции естественного права, а не божественного. Бог, по его мнению, как бы и не нужен вовсе для государства, а нужен только пресловутый общественный договор. Естественное состояние человека, по мысли Гоббса, — это «война всех против всех». Если человеку будет предоставлена возможность убить или обокрасть соседа, он непременно это сделает. Поэтому люди в один прекрасный день договорились создать чудовище, которое является «царем над всеми сынами гордости» (Иов 41:26). Это чудовище-то и есть государство, которое получает таким образом абсолютную власть и может даже и должно подчинить себе церковь и сделать ее инструментом своего тоталитарного, в сущности, контроля.
Парадокс еще в том, что Карл II, отвергнув на словах книгу Гоббса, в реальности именно такой тоталитарный режим в Англии и устроил. Есть блестящий исторический роман Роуз Тремейн «Реставрация», который рисует эпоху Карла II в очень нелицеприятных красках (если вам лень читать, можно посмотреть одноименный фильм с Сэмом Ниллом и Робертом Дауни-младшим). Всё в Англии 1660—85 гг подчинялось воле одного человека, этот человек всю жизнь играл людьми, как игрушками, и в итоге перед смертью сделал ровно то, чего боялось большинство англичан — принял католицизм, т. е. пошел принципиально против своего же народа, как отец и как дед. Результатом стал очередной мятеж — «славная революция» 1688 года, закончившаяся окончательным свержением Стюартов. Этого переворота Гоббс уже, разумеется, не увидел, он умер в 1679 году в возрасте 91 года.
Нужно понимать мифологию Гоббса и его мировоззрение. Лефиафан не враг, не демон, не дьявол, это всего лишь необходимое зло, которое ведет вечную войну с другим чудовищем — Бегемотом, под которым Гоббс подразумевал анархию и гражданскую войну, захлестнувшую Великобританию в XVIIстолетии. Т. е. Гоббс первым нашел ответ на вопрос на ответ, в чем же точка выхода из бесконечных религиозных войн. Эта точка в том, что должна быть абсолютная монархия без какой-либо божественной санкции. Хороший правитель — тот, кто прекратит бардак, вот и всё. Демократия прекратить бардака не может, потому что она его и порождает. Олигархия ничем не лучше. А вот монархия — это и есть commonwealth, «общественное благо», res publica.
Нужно понимать также, что в большинстве европейских стран в XVIII столетии восторжествовала именно гоббсианская модель полицейского государства, которую часто называют еще «империей», в узком, временном смысле. В России это направление начал Петр Первый, а своего расцвета оно достигло при Екатерине Великой. Большинство действий Екатерины укладывается именно в логику Гоббса, хотя на словах она и предпочитала ему Мармонтеля или Вольтера, т. е. чуть более мягкие изводы всё той же абсолютистской модели, предполагающей в т. ч. секуляризацию монастырей в государственных интересах и беспощадную расправу со всякими бунтовщиками (например, с Пугачевым и Радищевым). Вот почему принципиально неверно критиковать русскую императрицу за «жестокость»: по понятиям того времени это вовсе не жестокость, а стремление к государственному порядку. Тот, кто этого не понимает и хочет смущать умы под предлогом филантропии, — будет уничтожен.
В этом главное и принципиальное отличие Гоббса от Руссо. Руссо — филантроп. Гоббс — мизантроп. По Гоббсу «человек человеку волк». По Руссо человеческая природа блага, а дурными люди становятся только из-за дурных обстоятельств. Т. е. Гоббс еще бо́льший натуралист, чем Руссо. Руссо-то как раз не натуралист, а социалист: он наивно полагает, что можно исправить мир, покрутив кое-какие винтики и поменяв кое-что в общественной организации. Гоббс от подобных коммунистических иллюзий очень далек. На ужас Бегемота можно ответить только ужасом Левиафана.
Проблематика знаменитого фильма Звягинцева, как бы экранизирующего трактат Гоббса, в том-то и состоит, что Левиафана, по мысли режиссера, больше нет. Левиафан умер — это символизирует белый скелет кита. Российского государства больше не существует, а есть только Бегемот, нацепивший на себя маску Левиафана, в исполнении Романа Мадянова. Конечно, это плохо. Конечно, это ситуация, которую нужно исправлять. Вот почему Гоббс — великий философ. Он задал тренд, в котором мы до сих пор существуем. Гоббс как бы вышел на футбольное поле (англичанин же) и первым ударил по мячу, а все остальные только подхватили этот вид спорта и начали бегать по полю, кричать, размахивать руками и даже симулировать, что их сбили в штрафной...
Борис Мячин.
Свежие комментарии